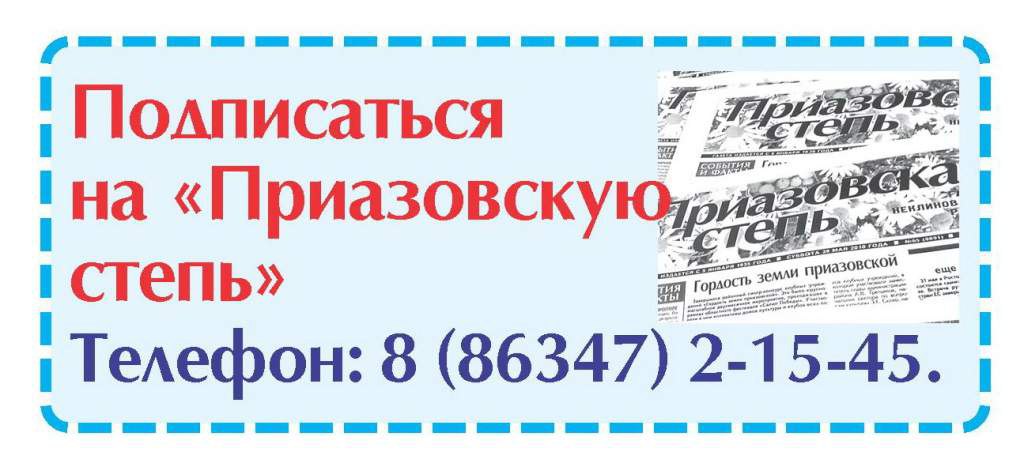Стою утром на мосту через Миус, смотрю на реку, любуюсь её неброской красотой. А в голове позитивные мысли путаются с невесёлыми. С высоты прожитых лет, скатываясь по волнам памяти на десятки лет в юность, детство, сравниваю речку, ту, что осталась в памяти, и сегодняшнюю. Сравнение не в пользу двадцать первого века.
Хоть и промежуток в истории реки крохотный. Не тысячелетия и даже не столетия. Вглядываюсь с моста в воду, она прозрачная, видно дно: илистое, затянутое космами тины, с покрышками, банками, другим мусором. Не то чтобы водицы испить захотелось, искупаться не тянет, а попытавшись войти в воду, проваливаешься по колено в дурно пахнущий ил. А ведь там, в детстве, можно было, купаясь, отплыть на середину реки, где вода не взмучена играющей в «лытки» ребятнёй, спокойно напиться, не боясь последствий.
Ощупывая под водой пальцами ног обрыв в поисках нор раков, ощутить, что он из плотного грунта, без ила, словно «корова языком облизала». И ещё попробуй было до дна донырнуть! А времени-то всего между этими днями — полвека.
В легендах же о Миусе можно даже услышать и о том, что корабли по нашей реке ходили. Корабли — не корабли, но вот обратившись к русскому историку Дмитрию Иловайскому (1832-1920), к его работе «Разыскания о начале Руси», где в главе «Судовой путь из Киева в Азовское море и связи Днепровской Руси с Боспорским краем» он, ссылаясь на картографа Гийома Боплана, пишет: «Рассказывая о возвращении запорожцев из своих походов по Черному морю, он поясняет, что кроме Днепра у них была и другая дорога из Черного моря в Запорожье, а именно: Керченским проливом, Азовским морем и рекой Миусом; от последнего они около мили идут волоком в Тачаводу (Волчью Воду), из нее в Самару, а из Самары в Днепр. В настоящее время такие степные реки, как Миус или Волчья Вода, не судоходны. Но они, как видим, были судоходны еще в XVII веке. Судя по Боплану, пространство между Днепром, Самарой и Миусом в его время еще было обильно остатками больших лесов. В XIII веке Рубруквис (монах-путешественник), описывая свое путешествие к татарам, также говорит о большом лесе на запад от реки Дон. Отсюда можно заключить, какие густые леса росли в более глубокой древности; а они-то и обусловливали значительную массу воды в реках этого края. Особенно в полную воду судоходство могло совершаться беспрепятственно…»
Известны в истории случаи, когда и донские казаки, возвращаясь на стругах из черноморских походов, дабы обойти турецкие пушки Азова, также добирались до своих хуторов и станиц Миусом, пряча в верховьях реки добычу и возвращаясь за ней уже на лошадях. Помнится, в детстве среди пацанов действительно гуляли легенды о спрятанных где-то в густых камышах казачьих сокровищах, о родниках, некогда питавших Миус и делавших его полноводным. И якобы забитых турецкими ядрами, обмотанными в овечьи шкуры для того, чтобы высохла река и казачьим судам прохода не было. Бывало, накупавшись, мы прочёсывали камыши, ныряли на глубину, ощупывая дно в поисках клада. Расчищали струившиеся из-под обрывов над рекой родники. Ничего, конечно, не находили. Но вот помнится, отец с дедом на бричке привезли с речки огромный борт от лодки. Точно не плоскодонки, раза в два больше, формой как от тех, что в ходу у рыбаков на море. Из старых, но ещё крепких досок, по-видимому, много лет пролежавших на дне реки. Этот борт, собранный без единого гвоздя, долго ещё служил в хозяйстве одной из стенок угольного ящика.
Наша степная речка служила водным маршрутом не только казакам. Профессор Филипп Брун (1804-1880) в своей статье «Следы древнего речного пути из Днепра в Азовское море», вспоминая о Залозном пути, упоминающемся ещё в древних летописях, разъясняет, что шёл он к Бердянским, Геническим и Перекопским соляным озёрам по рекам Миусу и Кальмиусу. По его мнению, одну из них, вероятнее, Миус, «…должно подразумевать под именем «Русской реки» у Эдриси, арабского писателя XII века, и на генуэзских картах XIV и XV столетий».
Ещё из детства в памяти остался так и не подтверждённый слух о том, что якобы не то Хрущёв, не то Брежнев тоже имели свои виды на Миус. Нет, не хотели повернуть его воды, как у сибирских рек, вспять, а сделать его вновь судоходным, расчистив и выпрямив русло, чтобы баржами возить с Донбасса уголёк к морским портам. Но те планы не реализовались по каким-то причинам, так что ни моему поколению, ни следующим на берегу судоходной реки жить не пришлось. А пришлось и приходится, к великому сожалению, наблюдать, как река медленно погибает. Человек тому причина или это природная закономерность, не могу сказать. Только очень не хочется стать свидетелем того, как будет перевёрнута последняя страница в истории великой реки Миус.
Сергей Авдеенко. Фото автора.
Река Миус: не дать поставить точку
Актуальные новости района и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».